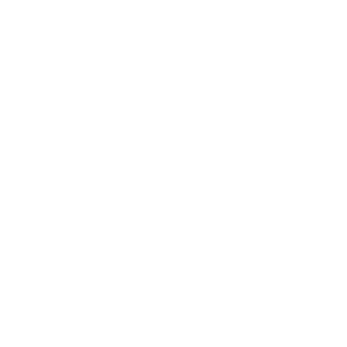Ирина крылова
О «СВОИХ», «ЧУЖИХ» И УРОВНЯХ СОЗНАНИЯ
Примерно лет 30 назад я с этого начинала. Тогда надо было выбрать свой путь в психологии, и я выбрала «Психологию развития», благодаря моей тогдашней учителю и подруге и благодаря ряду моих любимых авторов-психологов и философов. Именно этот путь привел меня впоследствии в астрологию и ведет дальше в регрессологию и пр.
Я живу в этой парадигме РАЗВИТИЯ и считаю, что душа, воплощается на Землю не для того, чтоб есть, спать, совокупляться, зарабатывать деньги…, вернее, не только для этого (4 цели жизни по Ведам). И даже не для того, чтобы получать Знание – это является промежуточным этапом.
Душа приходит, чтоб совершенствоваться. А для этого надо знать кто ты и какие цели ты выбрал для того, чтоб твое развитие и совершенствование проходило максимально гармонично и продуктивно для тебя.
И вот тут астрология – незаменимый помощник. Но я сейчас не об астрологии. Я хочу вернуться туда, откуда начинала свой путь 30 лет назад. Это цикл, и он закончился.
Эта статья – не подведение итогов! Я их вполне себе осознаю. Этот текст для тех, кто шел за мной, учился у меня, но по каким-то причинам «заблудился» или не захотел идти дальше или… Словом, вспоминаем, откуда начали, куда пришли и что дальше…
Нижеследующий текст взят из книги «Психология и психоанализ характера» Д.Я. Райгородского. А приводимый фрагмент написан одним из авторов-психологов, который сильно поспособствовал тому, чтоб я выбрала «Психологию развития» - Братусь Б.С. (Братусь Б.C. Психология. Нравственность. Культура. М.1994.) Этот текст отчасти способствует пониманию того, на каком уровне сознания мы находимся.
«…Важнейшим для характеристики личности является типичный, преобладающий для нее способ отношения к другому человеку, другим людям, и соответственно, к самому себе. Исходя из доминирующего способа отношения к себе и другому человеку было намечено несколько принципиальных уровней в структуре личности.
Первый уровень — эгоцентрический. Он определяется преимущественным стремлением лишь к собственному удобству, выгоде, престижу. Отношение к себе здесь как к единице, самоценности, а отношение к другим сугубо потребительское, лишь в зависимости от того, помогает ли другой личному успеху или нет. Если помогает, то он оценивается как удобный, хороший, если не помогает, препятствует, затрудняет, то — как плохой, враг.
Следующий, качественно иной уровень — группоцентрический. Человек, тяготеющий к этому уровню, идентифицирует себя с какой-либо группой и отношение его к другим людям тесно зависит от того, входят ли эти другие в его группу или нет. Группа при этом может быть самой разнообразной, не только маленькой, узкой как семья, например, но достаточно большой, например, целая нация, народ, класс. Если другой входит в такую группу, то он обладает свойством самоценности (вернее «группоценности» ибо ценен не сам по себе, а своей принадлежностью, родством группе), достоин жалости, сострадания, уважения, снисхождения, прощения, любви. Если же другой в эту группу не входит, то эти чувства могут на него не распространяться.
Следующий уровень мы назовем просоциальным или гуманистическим. Для человека, который достигает этого уровня, отношение к другому уже не определяется тем лишь — принадлежит он к определенной группе или нет. За каждым человеком, пусть даже недалеким, не входящим в мою группу, подразумевается самоценность и равенство его в отношении прав, свобод и обязанностей. В отличие от предыдущего уровня, где смысловая, личностная направленность ограничена пользой, благосостоянием, укреплением позиций относительно замкнутой группы, подлинно гуманистический уровень, в особенности его высшие ступени, характеризуются внутренней смысловой устремленностью человека на достижение таких результатов (продуктов труда, деятельности, общения, познания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему незнакомым, «чужим», «дальним» людям, обществу, человечеству в целом.
Если на первом описанном нами уровне другой человек выступает как вещь, как подножие эгоцентрических желаний, если на втором — другие делятся на круг «своих», обладающих самоценностью, и «чужих», ее лишенных, то на третьем уровне принцип самоценности человека становится всеобщим. По сути, только с этого уровня можно говорить о нравственности, только здесь начинает выполняться старое «золотое правило» этики — поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой, или известный императив Канта, требующий, чтобы максима, правило твоего поведения было равнопригодно, могло быть распространено как правило для всего человечества. На предыдущих стадиях речь о нравственности не идет, хотя можно, разумеется, говорить о морали — эгоцентрической или групповой, корпоративной.
Просоциальная, гуманистическая ступень — казалось бы высшая из возможных для развития личности. Однако над этой замечательной и высокой ступенью есть еще одна. Ее можно назвать духовной или эсхатологической. На этой ступени человек начинает осознавать и смотреть на себя и другого не как на конечные и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные, подобные, соотносимые с духовным миром. Как на существа, жизнь которых не кончается вместе с концом жизни земной. Иными словами — это уровень, в рамках которого решаются субъективные отношения человека с Богом, устанавливается личная формула связи с Ним. Если говорить о христианской традиции, то субъект приходит здесь к пониманию человека как образа и подобия Божия, поэтому другой человек приобретает в его глазах не только гуманистическую, разумную, общечеловеческую, но и особую сакральную, божественную ценность.
Понятно, что на каждой ступени меняется представление человека о благе и счастье. На первой ступени (эгоцентрической) это личное благо и счастье вне зависимости от того — счастливы или несчастны другие. (Лучше даже, чтобы они были несчастны, чтобы на их фоне ярче сияло твое счастье.)
На второй ступени благо и счастье связаны с процветанием той группы, с которой идентифицирует себя человек. Он не может быть счастлив, если терпит несчастье его группа. В то же время, если терпят ущерб и несчастье люди, не входящие в его группу, — это мало влияет на ощущение его счастья.
На третьей ступени счастье и благополучие подразумевает их распространение на всех людей, все человечество. Наконец, на четвертой ступени к этому прибавляется ощущение связи с Богом и представление о счастье как служении и соединении с Ним.
Чтобы приблизиться к пониманию реальной сложности, необходимо также добавить, что помимо намеченной вертикали души, ее подъемных уровней, существует шкала степеней присвоенности тех или иных смысловых содержании и мотивационных устремлении, принадлежащих к разным уровням. Так, можно говорить о неустойчивых, ситуативных смысловых содержаниях, характеризующихся эпизодичностью, зависимостью от внешних обстоятельств; далее — об устойчивых, личностно присвоенных смысловых содержаниях, вошедших, вплетенных в общую структуру смысловой сферы; и наконец, о личностных ценностях, определяемых как осознанные и принятые человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни.
Поэтому я весьма далек от мысли, что людей можно расклассифицировать, расставить каждого на определенной ступени. Все четыре уровня так или иначе присутствуют, сожительствуют в каждом и в какие-то моменты, хотя бы эпизодом, ситуативно побеждает один уровень, а в какие-то — другой. Однако вполне можно говорить и о некотором типичном для данного человека профиле, типичном устремлении. Так, хотя выраженного эгоцентриста могут вполне посещать и группоцентрические, и гуманистические, и даже духовные порывы, они, как правило, проигрывают, терпят поражение, отступают в реальной жизни перед мотивами эгоцентрическими, успевшими приобрести в его душе статус личностных ценностей.
Можно использовать здесь для иллюстрации и церковный образ «прозрачности» человека. Эгоцентрист по большей части прозрачен, открыт лишь для эгоцентрических побуждений, тогда как в отношении вышележащих уровней он затуманен, неверен, случаен, видит их как бы в дымке, искажении, дурном преломлении. Подъем по ступеням развития личности — это все большая открытость, прозрачность человека ко все более высоким смыслообразующим уровням. Духовная, эсхатологическая ступень делает человека открытым, прозрачным Самому Богу. Это может произойти ситуативно, на время и далее замутиться надолго, а может стать и относительно постоянным состоянием. Вот тогда-то мы видим и говорим, что человек светится весь, изучает добро и свет. Но не он из себя сам, а через него, ставшего прозрачным для Бога…»
Не правда ли интерпретация уровней сознания Братуся напоминает почакровую диагностику? Где человек муладхары – существо полностью инфантильное и эгоцентричное. Человек свадхистханы – человек наслаждающийся, для которого важны престиж, уровень благосостояния и пр. Человек манипуры – ставит себе цели, открывает свое дело, осознанно подходит к тому, что делает. Это уже группоцентрический уровень сознания.
Развитие человека начинается с уровня анахаты. Это уровень самопознания, открытия сердца. Человек этого уровня много учится, познает себя, растет и развивается. Низший анахатный уровень – это гуманистический уровень. Высший – начинается переход к духовности.
Полностью переход к духовности, к познанию Бога в себе происходит на следующих трех уровнях (Вишудхи, Аджны и Сахасрары). Это уже уровень Учителей и Высших Учителей, которые дают человечеству Знания.
Не помню, кто первый сравнил эволюцию человека с квестом. Чтоб перейти на следующий уровень (или подуровень) нужно решить какую-то задачу: от чего-то освободиться, что-то в себе развить и пр. Иногда это происходит одномоментно, иногда на это уходят годы, а то и десятилетия… .
Высшие духовные науки (Астрология, Регрессология и т.п) сильно способствуют продвижению человека. Способствуют, но не определяют. Прогресс человека определяется его НАМЕРЕНИЕМ. И то, с какой целью человек изучает то или иное знание, определяет его дальнейший Путь.
Но вернемся к тексту Братуся. Далее он определяет основной типаж личности западных стран и типы личностей в русской, советской и перестроечной культуре. Надо сказать, что данное эссе Братусем было написано в 1994г. А вывод, что происходит сейчас, предстоит сделать читателю, Сатурн которого позволит дочитать этот длинный текст до конца. J
«…Теперь, на основе рассмотрения уровней развития личности, можно рассмотреть различие человека русской культуры и человека советского. Добавим к этому для сравнения и человека западного, точнее, центрально— и западноевропейского. Надо ли вновь подчеркивать, что речь пойдет, конечно, об абстракции, и о том, к чему стремилась соответствующая культура — русская, советская и западная в качестве своего образца, цели, упования.
Русская культура при всех ее издержках стремилась к образованию и реализации в человеке духовного, эсхатологического уровня как главного и определяющего его нравственный облик. Любое дело, чтобы быть признанным, благим, нужным, должно было быть оправдано, соотнесено с христианским намерением, с Христом. Все остальные деяния, пусть и приносящие внешнюю, материальную пользу, рассматривались как зло.
Советская культура всей мощью тоталитарной системы формировала (можно сказать грубее и точнее — формовала, прессовала) иной тип личности — группоцентрический. Главными были класс, партия, коммунистическое общество, а все, что вокруг — враги, против которых возможны любые средства борьбы. Все было направлено именно к такой, по сути дела, донравственной позиции.
Западная культура выносила в себе просоциальную, гуманистическую ориентацию. Стремление в идеале нести благо всем людям, человечеству в целом. Этим ориентациям способствовали и одновременно их отражали весьма многие обстоятельства и условия.
Возьмем, например, западный вариант. Западная государственность формировалась как стремление к праву, такому порядку, при котором каждый член общества был бы в равной степени защищен законом и ответственностью перед ним. Центральными здесь стали понятия чести, справедливости, закона. Отсюда глубокая разработка, реальное правовое, юридичское обеспечение гуманистических тенденций.
Русская история закона не знала, она вся пропитана произволом царей, губернатора, любого начальника, любого, как писал Достоевский, дьячка в церкви. Народ, человек, по сути, всегда чувствовал себя совершенно бесправным. Если он и мог к чему-то апеллировать, то не к закону, а к совести, состраданию, христианскому милосердию другого. То есть он как бы миновал инстанцию гуманистическую, правовую и обращался сразу к духовному уровню. Поэтому в профиле русской души как бы провал, ущерб правового сознания, но именно он способствовал, подталкивал к жизни духовной. Царь мог миловать, а мог казнить. И это зависело не от закона, а от того, внемлет ли он мольбе, просьбе, простит ли он «Христа ради», а не ради такого-то параграфа закона. Ключевым, таким образом, опорным здесь является слово «совесть».
Что касается советской морали, то она, как сказано, была выраженно группоцентрической и ключевым здесь является понятие «классового сознания». То есть для снисхождения или оправдания надо было апеллировать не к закону и чести, не к совести и Богу, но к классовой пользе. (Известно, что некоторые участники показательных процессов 30-х годов брали на себя несуществующую вину только потому, что считали — так будет лучше для коммунистической партии и пролетариата).
Данная классификация находит достаточно много и других подтверждений. Возьмем, например, такой чуткий показатель, как язык. В русском языке нет строгого определения места глаголов и порядка других слов, это язык, как заметил Бродский, завихрений придаточных предложений. Но именно такой язык в наибольшей степени оказывается пригодным для описания далеких от однозначности, трудновыразимых духовных реалий. Это лишь структурная сторона. Русский язык отличается от других и по значению многих, причем сугубо повседневных слов — это язык необыкновенно сакральный, возможно, самый сакральный, христианский из мировых языков. В самом деле, обычная благодарность «спасибо» — это спаси Бог, название седьмого дня недели «воскресенье» — в напоминание центрального таинства христианства Воскресения Христова, судьба — это суд Божий и др.
В известном плане группоцентризм сейчас не только не преодолен, но, напротив, расцвел, обрел новые формы и воплощения — сепаратизм, национализм, всевозможные формы группования, кучкования и противостояния.
В истории двадцатого века было два чудовищных апофеоза группоцентрической ориентации — коммунизм и фашизм. В основе коммунизма лежит центризм классовой идеи. В основе фашизма — центризм нации. То и другое произрастает из одного психологического корня, из одного соблазна — люциферовой идеи отъединения от общего и гордости за частное. Наша современность только подтверждает эту общность: ныне две эти ветви, первоначально как бы враждебные, соединились — на сцену вышли красно-коричневые.
У нас в стране сейчас в определенных кругах очень в ходу идея чуждого влияния, тайных и могущественных сил, совращающих народ. Идея типично группоцентрическая, группоцентрической семантики сознания — все происходит от того, что есть кто-то, некто управляющий, выкидывающий, дающий, нами, простецами, манипулирующий. Вот и сейчас слои с группоцентрическим психологическим наследием (а таких у нас достаточно) упорно ищут (а раз ищут, то и находят как при любом усиленном, переходящем в параною внимании) тайные причины.
Разумеется, есть сонм врагов у всякого — видимых и невидимых, как и обилие вирусов вокруг и внутри организма, но ведь несмотря на это обилие кто-то заболевает, а кто-то нет. И в духовной сфере народа ли, человека то же. Между тем, полная, действительная, не отклоненная правда такова, что цель «реальное счастье реального человека» впрямую не достигается, если ставить ее как таковую, а затем как угодно сознательно и планомерно следовать к ней. Она неизбежно исчезает в ходе этого движения, становится болотным огнем, и мы вдруг оказываемся вместо райских кущей в ином месте — страшном, кровавом, на каждом шагу унижающем и попирающем человека. И получаем в результате не «человека реального», сознательно, планомерно формируемого, а человека в нашем случае, «советского».
Жизнь можно уподобить реке с быстрым течением. И чтоб достигнуть желаемой цели – точки на другом берегу реки – надо плыть, намечая точку (цель) намного более высокую, чем желаемая. Течение реки скорректирует лодку и вы попадете туда, куда изначально желали. Так, при обсуждении картины Николая Рериха «Гонец», Л.Н.Толстой не столько, видимо, о самой картине, сколько в жизненном напутствии еще молодому тогда художнику сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».
Цель тем самым не должна совпадать с целью, не должна быть равна самой себе, но для достижения реального и возможного надобно стремиться к идеальному и невозможному.
Эта модель может быть распространена как на отдельные нравственные судьбы, так и на целые исторические эпохи, в том числе и на роковую для нас эпоху материализма.»
Последнюю часть я сильно сократила, т.к. Братусь написал ее во время перестройки, а сейчас как раз постперестроечное время и мы, «приплыли», совсем не куда желали.
Очень хочется, чтоб люди осознавали свой эволюционный уровень и стремились бы к более высокому. И осознавали бы в какой стране мы живем… и что стоит за «своими» и «чужими»…
И еще хочется, чтоб люди осознавали волшебную силу НАМЕРЕНИЯ. И умели бы ставить себе почти (!) недостижимые цели.
Я живу в этой парадигме РАЗВИТИЯ и считаю, что душа, воплощается на Землю не для того, чтоб есть, спать, совокупляться, зарабатывать деньги…, вернее, не только для этого (4 цели жизни по Ведам). И даже не для того, чтобы получать Знание – это является промежуточным этапом.
Душа приходит, чтоб совершенствоваться. А для этого надо знать кто ты и какие цели ты выбрал для того, чтоб твое развитие и совершенствование проходило максимально гармонично и продуктивно для тебя.
И вот тут астрология – незаменимый помощник. Но я сейчас не об астрологии. Я хочу вернуться туда, откуда начинала свой путь 30 лет назад. Это цикл, и он закончился.
Эта статья – не подведение итогов! Я их вполне себе осознаю. Этот текст для тех, кто шел за мной, учился у меня, но по каким-то причинам «заблудился» или не захотел идти дальше или… Словом, вспоминаем, откуда начали, куда пришли и что дальше…
Нижеследующий текст взят из книги «Психология и психоанализ характера» Д.Я. Райгородского. А приводимый фрагмент написан одним из авторов-психологов, который сильно поспособствовал тому, чтоб я выбрала «Психологию развития» - Братусь Б.С. (Братусь Б.C. Психология. Нравственность. Культура. М.1994.) Этот текст отчасти способствует пониманию того, на каком уровне сознания мы находимся.
«…Важнейшим для характеристики личности является типичный, преобладающий для нее способ отношения к другому человеку, другим людям, и соответственно, к самому себе. Исходя из доминирующего способа отношения к себе и другому человеку было намечено несколько принципиальных уровней в структуре личности.
Первый уровень — эгоцентрический. Он определяется преимущественным стремлением лишь к собственному удобству, выгоде, престижу. Отношение к себе здесь как к единице, самоценности, а отношение к другим сугубо потребительское, лишь в зависимости от того, помогает ли другой личному успеху или нет. Если помогает, то он оценивается как удобный, хороший, если не помогает, препятствует, затрудняет, то — как плохой, враг.
Следующий, качественно иной уровень — группоцентрический. Человек, тяготеющий к этому уровню, идентифицирует себя с какой-либо группой и отношение его к другим людям тесно зависит от того, входят ли эти другие в его группу или нет. Группа при этом может быть самой разнообразной, не только маленькой, узкой как семья, например, но достаточно большой, например, целая нация, народ, класс. Если другой входит в такую группу, то он обладает свойством самоценности (вернее «группоценности» ибо ценен не сам по себе, а своей принадлежностью, родством группе), достоин жалости, сострадания, уважения, снисхождения, прощения, любви. Если же другой в эту группу не входит, то эти чувства могут на него не распространяться.
Следующий уровень мы назовем просоциальным или гуманистическим. Для человека, который достигает этого уровня, отношение к другому уже не определяется тем лишь — принадлежит он к определенной группе или нет. За каждым человеком, пусть даже недалеким, не входящим в мою группу, подразумевается самоценность и равенство его в отношении прав, свобод и обязанностей. В отличие от предыдущего уровня, где смысловая, личностная направленность ограничена пользой, благосостоянием, укреплением позиций относительно замкнутой группы, подлинно гуманистический уровень, в особенности его высшие ступени, характеризуются внутренней смысловой устремленностью человека на достижение таких результатов (продуктов труда, деятельности, общения, познания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему незнакомым, «чужим», «дальним» людям, обществу, человечеству в целом.
Если на первом описанном нами уровне другой человек выступает как вещь, как подножие эгоцентрических желаний, если на втором — другие делятся на круг «своих», обладающих самоценностью, и «чужих», ее лишенных, то на третьем уровне принцип самоценности человека становится всеобщим. По сути, только с этого уровня можно говорить о нравственности, только здесь начинает выполняться старое «золотое правило» этики — поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой, или известный императив Канта, требующий, чтобы максима, правило твоего поведения было равнопригодно, могло быть распространено как правило для всего человечества. На предыдущих стадиях речь о нравственности не идет, хотя можно, разумеется, говорить о морали — эгоцентрической или групповой, корпоративной.
Просоциальная, гуманистическая ступень — казалось бы высшая из возможных для развития личности. Однако над этой замечательной и высокой ступенью есть еще одна. Ее можно назвать духовной или эсхатологической. На этой ступени человек начинает осознавать и смотреть на себя и другого не как на конечные и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные, подобные, соотносимые с духовным миром. Как на существа, жизнь которых не кончается вместе с концом жизни земной. Иными словами — это уровень, в рамках которого решаются субъективные отношения человека с Богом, устанавливается личная формула связи с Ним. Если говорить о христианской традиции, то субъект приходит здесь к пониманию человека как образа и подобия Божия, поэтому другой человек приобретает в его глазах не только гуманистическую, разумную, общечеловеческую, но и особую сакральную, божественную ценность.
Понятно, что на каждой ступени меняется представление человека о благе и счастье. На первой ступени (эгоцентрической) это личное благо и счастье вне зависимости от того — счастливы или несчастны другие. (Лучше даже, чтобы они были несчастны, чтобы на их фоне ярче сияло твое счастье.)
На второй ступени благо и счастье связаны с процветанием той группы, с которой идентифицирует себя человек. Он не может быть счастлив, если терпит несчастье его группа. В то же время, если терпят ущерб и несчастье люди, не входящие в его группу, — это мало влияет на ощущение его счастья.
На третьей ступени счастье и благополучие подразумевает их распространение на всех людей, все человечество. Наконец, на четвертой ступени к этому прибавляется ощущение связи с Богом и представление о счастье как служении и соединении с Ним.
Чтобы приблизиться к пониманию реальной сложности, необходимо также добавить, что помимо намеченной вертикали души, ее подъемных уровней, существует шкала степеней присвоенности тех или иных смысловых содержании и мотивационных устремлении, принадлежащих к разным уровням. Так, можно говорить о неустойчивых, ситуативных смысловых содержаниях, характеризующихся эпизодичностью, зависимостью от внешних обстоятельств; далее — об устойчивых, личностно присвоенных смысловых содержаниях, вошедших, вплетенных в общую структуру смысловой сферы; и наконец, о личностных ценностях, определяемых как осознанные и принятые человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни.
Поэтому я весьма далек от мысли, что людей можно расклассифицировать, расставить каждого на определенной ступени. Все четыре уровня так или иначе присутствуют, сожительствуют в каждом и в какие-то моменты, хотя бы эпизодом, ситуативно побеждает один уровень, а в какие-то — другой. Однако вполне можно говорить и о некотором типичном для данного человека профиле, типичном устремлении. Так, хотя выраженного эгоцентриста могут вполне посещать и группоцентрические, и гуманистические, и даже духовные порывы, они, как правило, проигрывают, терпят поражение, отступают в реальной жизни перед мотивами эгоцентрическими, успевшими приобрести в его душе статус личностных ценностей.
Можно использовать здесь для иллюстрации и церковный образ «прозрачности» человека. Эгоцентрист по большей части прозрачен, открыт лишь для эгоцентрических побуждений, тогда как в отношении вышележащих уровней он затуманен, неверен, случаен, видит их как бы в дымке, искажении, дурном преломлении. Подъем по ступеням развития личности — это все большая открытость, прозрачность человека ко все более высоким смыслообразующим уровням. Духовная, эсхатологическая ступень делает человека открытым, прозрачным Самому Богу. Это может произойти ситуативно, на время и далее замутиться надолго, а может стать и относительно постоянным состоянием. Вот тогда-то мы видим и говорим, что человек светится весь, изучает добро и свет. Но не он из себя сам, а через него, ставшего прозрачным для Бога…»
Не правда ли интерпретация уровней сознания Братуся напоминает почакровую диагностику? Где человек муладхары – существо полностью инфантильное и эгоцентричное. Человек свадхистханы – человек наслаждающийся, для которого важны престиж, уровень благосостояния и пр. Человек манипуры – ставит себе цели, открывает свое дело, осознанно подходит к тому, что делает. Это уже группоцентрический уровень сознания.
Развитие человека начинается с уровня анахаты. Это уровень самопознания, открытия сердца. Человек этого уровня много учится, познает себя, растет и развивается. Низший анахатный уровень – это гуманистический уровень. Высший – начинается переход к духовности.
Полностью переход к духовности, к познанию Бога в себе происходит на следующих трех уровнях (Вишудхи, Аджны и Сахасрары). Это уже уровень Учителей и Высших Учителей, которые дают человечеству Знания.
Не помню, кто первый сравнил эволюцию человека с квестом. Чтоб перейти на следующий уровень (или подуровень) нужно решить какую-то задачу: от чего-то освободиться, что-то в себе развить и пр. Иногда это происходит одномоментно, иногда на это уходят годы, а то и десятилетия… .
Высшие духовные науки (Астрология, Регрессология и т.п) сильно способствуют продвижению человека. Способствуют, но не определяют. Прогресс человека определяется его НАМЕРЕНИЕМ. И то, с какой целью человек изучает то или иное знание, определяет его дальнейший Путь.
Но вернемся к тексту Братуся. Далее он определяет основной типаж личности западных стран и типы личностей в русской, советской и перестроечной культуре. Надо сказать, что данное эссе Братусем было написано в 1994г. А вывод, что происходит сейчас, предстоит сделать читателю, Сатурн которого позволит дочитать этот длинный текст до конца. J
«…Теперь, на основе рассмотрения уровней развития личности, можно рассмотреть различие человека русской культуры и человека советского. Добавим к этому для сравнения и человека западного, точнее, центрально— и западноевропейского. Надо ли вновь подчеркивать, что речь пойдет, конечно, об абстракции, и о том, к чему стремилась соответствующая культура — русская, советская и западная в качестве своего образца, цели, упования.
Русская культура при всех ее издержках стремилась к образованию и реализации в человеке духовного, эсхатологического уровня как главного и определяющего его нравственный облик. Любое дело, чтобы быть признанным, благим, нужным, должно было быть оправдано, соотнесено с христианским намерением, с Христом. Все остальные деяния, пусть и приносящие внешнюю, материальную пользу, рассматривались как зло.
Советская культура всей мощью тоталитарной системы формировала (можно сказать грубее и точнее — формовала, прессовала) иной тип личности — группоцентрический. Главными были класс, партия, коммунистическое общество, а все, что вокруг — враги, против которых возможны любые средства борьбы. Все было направлено именно к такой, по сути дела, донравственной позиции.
Западная культура выносила в себе просоциальную, гуманистическую ориентацию. Стремление в идеале нести благо всем людям, человечеству в целом. Этим ориентациям способствовали и одновременно их отражали весьма многие обстоятельства и условия.
Возьмем, например, западный вариант. Западная государственность формировалась как стремление к праву, такому порядку, при котором каждый член общества был бы в равной степени защищен законом и ответственностью перед ним. Центральными здесь стали понятия чести, справедливости, закона. Отсюда глубокая разработка, реальное правовое, юридичское обеспечение гуманистических тенденций.
Русская история закона не знала, она вся пропитана произволом царей, губернатора, любого начальника, любого, как писал Достоевский, дьячка в церкви. Народ, человек, по сути, всегда чувствовал себя совершенно бесправным. Если он и мог к чему-то апеллировать, то не к закону, а к совести, состраданию, христианскому милосердию другого. То есть он как бы миновал инстанцию гуманистическую, правовую и обращался сразу к духовному уровню. Поэтому в профиле русской души как бы провал, ущерб правового сознания, но именно он способствовал, подталкивал к жизни духовной. Царь мог миловать, а мог казнить. И это зависело не от закона, а от того, внемлет ли он мольбе, просьбе, простит ли он «Христа ради», а не ради такого-то параграфа закона. Ключевым, таким образом, опорным здесь является слово «совесть».
Что касается советской морали, то она, как сказано, была выраженно группоцентрической и ключевым здесь является понятие «классового сознания». То есть для снисхождения или оправдания надо было апеллировать не к закону и чести, не к совести и Богу, но к классовой пользе. (Известно, что некоторые участники показательных процессов 30-х годов брали на себя несуществующую вину только потому, что считали — так будет лучше для коммунистической партии и пролетариата).
Данная классификация находит достаточно много и других подтверждений. Возьмем, например, такой чуткий показатель, как язык. В русском языке нет строгого определения места глаголов и порядка других слов, это язык, как заметил Бродский, завихрений придаточных предложений. Но именно такой язык в наибольшей степени оказывается пригодным для описания далеких от однозначности, трудновыразимых духовных реалий. Это лишь структурная сторона. Русский язык отличается от других и по значению многих, причем сугубо повседневных слов — это язык необыкновенно сакральный, возможно, самый сакральный, христианский из мировых языков. В самом деле, обычная благодарность «спасибо» — это спаси Бог, название седьмого дня недели «воскресенье» — в напоминание центрального таинства христианства Воскресения Христова, судьба — это суд Божий и др.
Тип личности перестроечной эпохи
Мы видели, что советская эпоха сформировала группо-центрическую ориентацию общества и личности и, соответственно, группоцентрические внутренние, часто не осознаваемые установки. В эпоху перестройки многие предметы и символы, венчающие эти установки оказались дискредитированными, утерявшими прежнюю привлекательность. Предметы ушли или поблекли, но установки остаются, ибо они обладают обычно большой инерцией, тяжестью и не меняются в одночасье из-за внешних причин.В известном плане группоцентризм сейчас не только не преодолен, но, напротив, расцвел, обрел новые формы и воплощения — сепаратизм, национализм, всевозможные формы группования, кучкования и противостояния.
В истории двадцатого века было два чудовищных апофеоза группоцентрической ориентации — коммунизм и фашизм. В основе коммунизма лежит центризм классовой идеи. В основе фашизма — центризм нации. То и другое произрастает из одного психологического корня, из одного соблазна — люциферовой идеи отъединения от общего и гордости за частное. Наша современность только подтверждает эту общность: ныне две эти ветви, первоначально как бы враждебные, соединились — на сцену вышли красно-коричневые.
У нас в стране сейчас в определенных кругах очень в ходу идея чуждого влияния, тайных и могущественных сил, совращающих народ. Идея типично группоцентрическая, группоцентрической семантики сознания — все происходит от того, что есть кто-то, некто управляющий, выкидывающий, дающий, нами, простецами, манипулирующий. Вот и сейчас слои с группоцентрическим психологическим наследием (а таких у нас достаточно) упорно ищут (а раз ищут, то и находят как при любом усиленном, переходящем в параною внимании) тайные причины.
Разумеется, есть сонм врагов у всякого — видимых и невидимых, как и обилие вирусов вокруг и внутри организма, но ведь несмотря на это обилие кто-то заболевает, а кто-то нет. И в духовной сфере народа ли, человека то же. Между тем, полная, действительная, не отклоненная правда такова, что цель «реальное счастье реального человека» впрямую не достигается, если ставить ее как таковую, а затем как угодно сознательно и планомерно следовать к ней. Она неизбежно исчезает в ходе этого движения, становится болотным огнем, и мы вдруг оказываемся вместо райских кущей в ином месте — страшном, кровавом, на каждом шагу унижающем и попирающем человека. И получаем в результате не «человека реального», сознательно, планомерно формируемого, а человека в нашем случае, «советского».
Жизнь можно уподобить реке с быстрым течением. И чтоб достигнуть желаемой цели – точки на другом берегу реки – надо плыть, намечая точку (цель) намного более высокую, чем желаемая. Течение реки скорректирует лодку и вы попадете туда, куда изначально желали. Так, при обсуждении картины Николая Рериха «Гонец», Л.Н.Толстой не столько, видимо, о самой картине, сколько в жизненном напутствии еще молодому тогда художнику сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».
Цель тем самым не должна совпадать с целью, не должна быть равна самой себе, но для достижения реального и возможного надобно стремиться к идеальному и невозможному.
Эта модель может быть распространена как на отдельные нравственные судьбы, так и на целые исторические эпохи, в том числе и на роковую для нас эпоху материализма.»
Последнюю часть я сильно сократила, т.к. Братусь написал ее во время перестройки, а сейчас как раз постперестроечное время и мы, «приплыли», совсем не куда желали.
Очень хочется, чтоб люди осознавали свой эволюционный уровень и стремились бы к более высокому. И осознавали бы в какой стране мы живем… и что стоит за «своими» и «чужими»…
И еще хочется, чтоб люди осознавали волшебную силу НАМЕРЕНИЯ. И умели бы ставить себе почти (!) недостижимые цели.